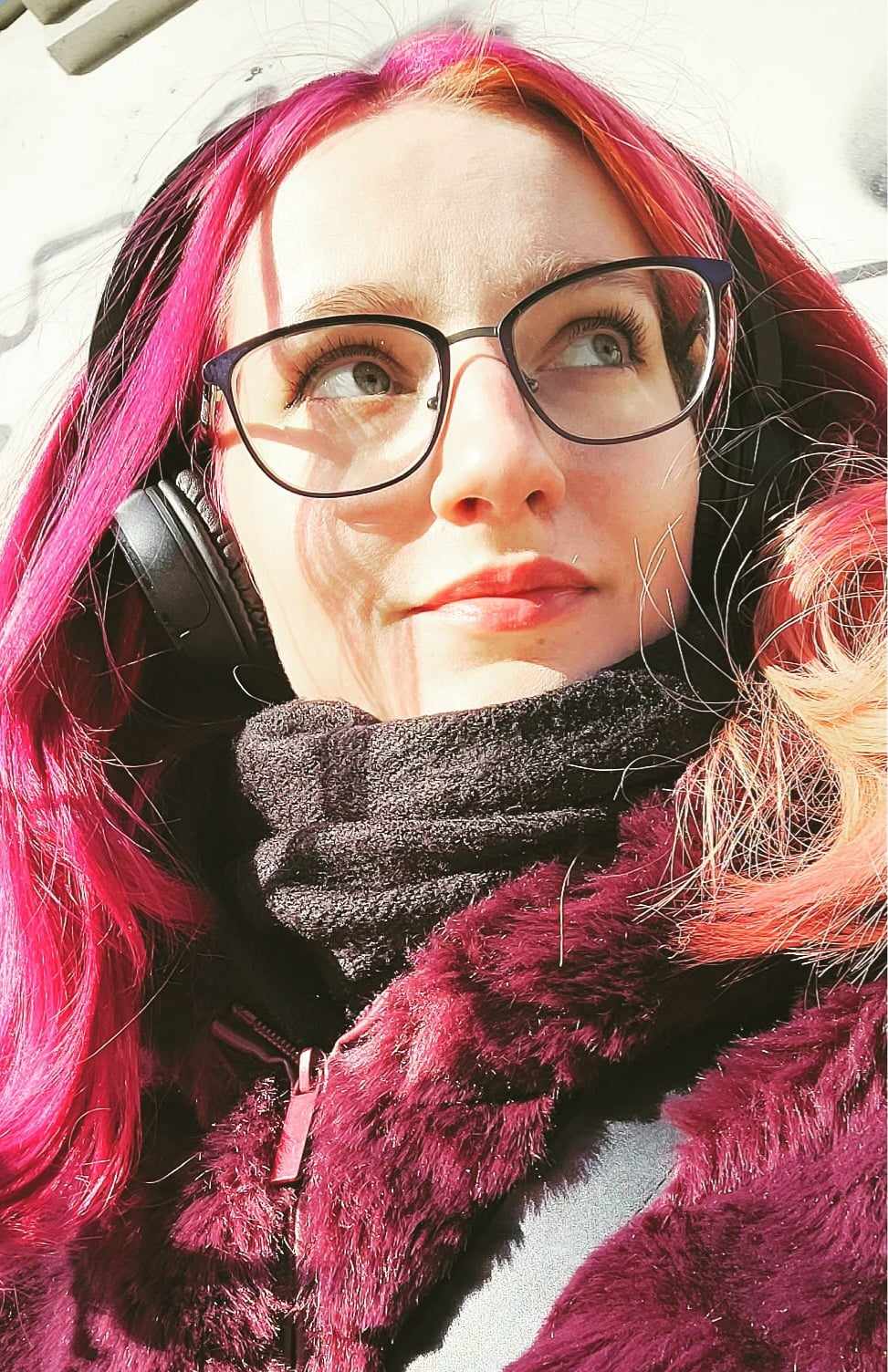«Ведь я так чувствую»: литература женская и общечеловеческая
Феминистская литературная критика — явление многостороннее, активно развивающееся с 1920-х годов параллельно в англо-американском и французском литературоведении. Тогда же и начинается процесс переоценки классических канонических произведений с фокусом на женские образы, обращается внимание на их присутствие и особенности проявления в художественных текстах, ставятся вопросы о том, чьими глазами читатель смотрит на героинь, насколько далеки они от образа реальных женщин и почему. Феминистская литературная критика занимается и обновлением литературного канона путем “воскрешения” забытых исконно патриархальным литературным процессом писательниц, возвращая их в историю литературы. Так, например, Урсула К. Ле Гуин в эссе “Исчезающие бабушки” обозначает и обнажает механизм “забвения”, разделяя его на четыре метода или техники: клевета, опущение, исключение, исчезновение. Фокус литературоведческого внимания в феминистской критике может быть направлен на пол автора (женская литература), стиль текста (женское письмо), содержание текста (женская автобиография), восприятие читателя (женское чтение).
Таким образом, подразумевается работа с несколькими видами текстов:
- тексты, написанные женщинами;
- “феминные” тексты, т.е. написанные в традиции, идентифицирующейся культурой как “женская”;
- феминистские тексты, т.е. сознательно следующие формам, отличным от доминантного, т.е. патриархатного литературного канона, преследующие другие цели и использующие другие методы.
Прошлым летом я посетила презентацию книги стихов поэтессы Аси Аксеновой в Russow Galerii. Презентация была камерной, но даже среди пришедших пяти-шести человек нашелся один, который между покупкой книги и просьбой об автографе произнес, безусловно подразумевая восторженный комплимент, следующее: “Вы так пишете! Никогда не подумал бы, что это написано женщиной!”
“Oh, well. Тут что-то не так, но дело не в том, как это написано”, — подумала тогда я.
Мы все — читающие, пишущие, думающие о своем и чужом письме — вырастаем на том материале, который начинаем потреблять с детства.
Или все же в этом? Курс по теории литературоведения Таллиннского университета включает в себя один семинар, посвященный феминистской литературной критике. Так, например, в ходе обсуждения на одном из таких семинаров, на котором довелось побывать и мне, прозвучало два имени: Вийви Луйк и Эне Михкельсон. К каким из вышеперечисленных типов текстов можно причислить творчество этих писательниц, в чьих текстах, конечно, возможно найти похожие темы — например, историческая память, национальная идентичность — но способ письма и высказывания которых разительно отличается. Так роман Вийви Луйк “Седьмая мирная весна” (“Seitsmes rahukevad”), написанный в автобиографическом жанре (т.е. мы имеем дело с женской автобиографией) — где в фокусе внимания оказывается семилетняя девочка, ее отношения с миром, семьей, литературой — показывает жизнь в послевоенной Эстонии глазами ребенка, и личность главной героини центральна в повествовании. В свою очередь, Эне Михкельсон часто характеризуют, как писательницу, затрагивающую в своих работах большие историко-философские проблемы и сложные вопросы морали. В романе “Сон Агасфера” (“Ahasveeruse uni”), главная героиня которого пытается через работу с архивами найти информацию о судьбе своей семьи, повествование балансирует на грани истории и фикции, сна и реальности. Да, главная героиня – женщина и, возможно, в тексте имеют место и автобиографические мотивы, но субъектность героини предельно размыта, а текст фокусируется на самом себе, аллегорически рассуждая об исторической истине.
Возвращаясь к семинару по феминистской критике, в ходе обсуждения этих двух писательниц в воздухе повис вопрос: почему Вийви Луйк имеет большее отношение к женскому письму, чем Эне Михкельсон, если кому-то из нас (в аудитории на тот момент присутствовали только женщины) ближе, понятнее письмо Эне Михкельсон? Скажем, почему я должна думать, что письмо Эне Михкельсон не имеет ко мне отношения, ведь я так чувствую, думаю об этих же вопросах и проблемах таким же образом и не вижу смысла делить письмо на женское и мужское – ведь есть же, в конце концов, общечеловеческое?
«Быть мужчиной не значит обладать особой спецификой»
В книге “Второй пол” Симона де Бовуар пишет:
“У меня всегда вызывало раздражение, когда в ходе отвлеченной дискуссии кто-нибудь из мужчин говорил мне: “Вы так думаете, потому что вы женщина”. Но я знала, единственное, что я могла сказать в свою защиту, это: “Я так думаю, потому что это правда”, устраняя тем самым собственную субъективность. И речи не могло быть о том, чтобы ответить: “А вы думаете по-другому, потому что вы мужчина”, ибо так уж заведено, что быть мужчиной не значит обладать особой спецификой. Мужчина, будучи мужчиной, всегда в своем праве, не права всегда женщина. Подобно тому как у древних существовала абсолютная вертикаль, по отношению к которой определялась наклонная, существует абсолютный человеческий тип — тип мужской”.1
«Вы так пишете! Никогда не подумал бы, что это написано женщиной!»
Когда Симона де Бовуар говорит, что “быть мужчиной не значит обладать особой спецификой”, она имеет в виду, что быть мужчиной – это общечеловеческая норма, в то время как быть женщиной – “отклонение”. Сейчас я пишу этот текст, сидя на лужайке в парке Таммсааре, памятник писателю находится в поле моего зрения. Позже я пойду в Центральную библиотеку, где первое, что увижу при входе – портрет Льва Толстого. Потом я прогуляюсь по улице Харью и встречусь с памятником Яану Кроссу и барельефом Юхана Смуула на стене Дома писателей. Все это будет происходить на пятачке радиусом в небольшую пешую прогулку. Что я хочу этим сказать? Мы все — читающие, пишущие, думающие о своем и чужом письме — вырастаем на том материале, который начинаем потреблять с детства. Часто случается так, что этим материалом становится то, что окружает нас в большей мере, т.е. самое очевидное: та самая “большая” литература, авторами которой выступают преимущественно мужчины. Литература, которую мы читаем в школе, которая стоит у наших родителей дома на полках, о которой говорится как о нетленном, неоспоримом, авторитетном. Так, в общем-то, вырастаем мы, которые “так чувствуют”, т.е. научены так чувствовать — заключенные между устоявшимся убеждением, что то, как и о чем писал Лев Толстой или Эне Михкельсон является письмом, принадлежащем культуре общечеловеческой, и ощущением, что все другое — это что-то обособленное, камерное, менее ценное. Так сто с лишним лет назад Анна Ахматова делает акцент на том, что она поэт, а не поэтесса. Так Жорж Санд пишет под мужским псевдонимом, как делают это и многие другие женщины в свое время — в том числе и писательницы остзейского дворянства.
В сфере интересов феминистской литературной критики рассматривать, анализировать, описывать среди прочего и подобные механизмы литературного процесса. Конечно же, женское письмо не ограничивается письмом, встроенным в доминантную патриархальную практику или письмом, маркирующимся как “женское” письмо. Художественные тексты, созданные в рамках феминистского высказывания (о роли которых нужно говорить отдельно) являются для теории литературы благодатным полем для изучения — и феминистская литературная критика является в этом случае инструментом, т.е. основным методологическим подходом.

В качестве дополнительного комментария приведу стихотворение финского поэта Кари Салламаа, оригинал которого был напечатан в поэтическом сборнике “Mustan hirven talo” в 2001 году:
Поэтесса 2
Стихотворица, волос долог, благоухает
ступает легкой походкой
по весне теленком оленя
Кудри из шелка и меди
водопадом струятся
с высокого лба
Не поймаешь ее
танцует уже в глубине
лесных залов
Поди, вспоминает тебя
берет в полон своих строчек
по ту сторону правды3
Male gaze (“мужской взгляд”) — ключевое понятие в феминистской теории кино, относящееся к объективированному образу женщины в кино.
Да, это хорошее стихотворение. Но в этом тексте примечательно и другое. Например, отчетливые пренебрежительные интонации: стихотворица (в эст. переводе — luuletajanna), волос долог (из пословицы “у бабы волос долог, да ум короток”, эст. вариант “pikk juus, lühike aru»). Есть тут и объективирующее (теленком оленя, не поймаешь ее), при этом через объективацию женский образ также романтизируется (легкой походкой, кудри из шелка и меди). К тому же, проявляется в тексте и безусловное ожидание, что героиня обращена своим вниманием к мужчине (поди, вспоминает тебя) и та самая невозможность женской правоты, о которой пишет де Бовуар еще в 1949 году (берет в полон своих строчек / по ту сторону правды). Это стихотворение Кари Салламаа, на мой взгляд, с одной стороны превосходно иллюстрирует, как конструируется и никуда не уходит из обихода образ “женского”, формируемого мужским письмом, тем, что мы называем male gaze. С другой стороны, объясняет причины, почему пишущие женщины могут желать избавления не только в разговоре о себе, но и в своем письме, от маркеров, относящихся к “женскому” и уж тем более “женственному” — к тому же, если подобный дискурс окружает с самого начала — на этапе взросления, знакомства с литературой — отказ от “женского” и приход к “общечеловеческому” (читай “мужскому») происходит практически бессознательно: ну, кому захочется оказаться “по ту сторону правды” (читай “на стороне лжи»)? Симптоматично, конечно, и то, что я, при написании текста о женском письме, единственной художественной иллюстрацией выбрала поэтическое высказывание автора-мужчины.